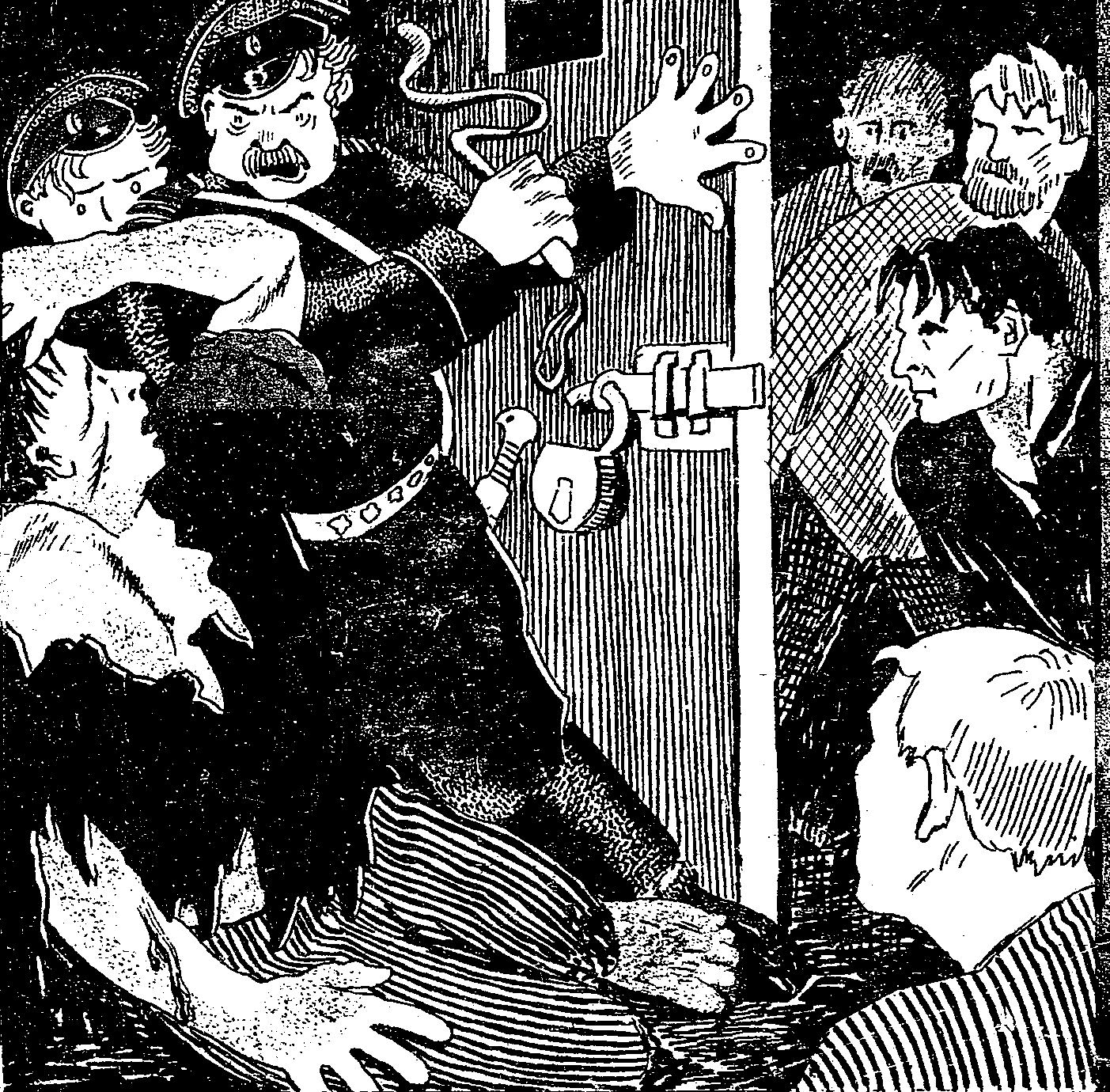 РП иногда публикует материалы, которые полностью или большей частью состоят из отрывков мемуаров большевиков, из отдельных глав книг пролетарских писателей, из статей учёных-марксистов и т.п. Это не означает, что сегодня нам не о чем писать и нечего сказать. Исторические события разворачиваются и растут, как туча над головой буржуазии, только успевай поворачиваться.
РП иногда публикует материалы, которые полностью или большей частью состоят из отрывков мемуаров большевиков, из отдельных глав книг пролетарских писателей, из статей учёных-марксистов и т.п. Это не означает, что сегодня нам не о чем писать и нечего сказать. Исторические события разворачиваются и растут, как туча над головой буржуазии, только успевай поворачиваться.
Но в народе любят исторические примеры, так сказать, аналогии. Однако история никогда не повторяется под копирку. Когда в событиях прошлого явно наблюдается схожесть с делами сегодняшнего дня, это означает лишь то, что действуют общие законы развития, что налицо главная движущая сила истории ― классовая борьба. Если сегодня Собянин и другие собянины грозят введением войск (т.е. массовой стрельбой в народ) и повторяют в новой форме методы царя и его палачей, типа Трепова, Меллер-Закомельского, Мина, то это означает, что главные классовые интересы эксплуататоров всех времён и народов совпадают. Интересы и цели современных фашистов, в общем, совпадают с интересами и целями тех, кто убивал рабочих 9 января 1905 г., кто утопил в крови восставшую Красную Пресню, кто приказывал стрелять на Ленских приисках, в Иваново-Вознесенске и т.д.
О том, насколько олигархи и их обер-жандармы ненавидят народ и боятся его, можно судить не только по событиям сегодняшнего дня. Звериная классовая ненависть буржуазии к пролетариату и всему трудовому народу не меняет своего существа. Она была такой в 1905 году, она усилилась в дни Великого Октября, она достигла пика в годы гражданской, а затем Великой Отечественной войны.
Что касается конкретных примеров и «аналогий». Нам попался дневник рабочего, беспартийного большевика Анатолия Герасимова, который тот вёл в 1918–1919 гг. в Екатеринбургской центральной тюрьме № 1, куда был брошен колчаковцами и белочехами. Дневник этот был издан в 1923 г. Истпартом при Уралбюро ЦК РКП(б) в виде книги под названием «Год в колчаковском застенке». Изучение этого дневника натолкнуло на мысль, что отдельные его места уж очень хорошо «ложатся» и перекликаются с сегодняшними событиями, и потому было бы неплохо ознакомить рабочих и всех наших трудовых людей с отрывками из дневника.
Ценность этих старых записей ещё и в том, что они сделаны бесхитростно и ясно: обычный человек честно описывает те рядовые события и обстоятельства, свидетелем которых был сам. В своём дневнике т. Герасимов не выдвигает никаких теорий, не даёт специально анализа событий. Всё это делает записи более понятными для наших многочисленных обывателей, которые всё ещё «не интересуются политикой» или боятся политики.
Но дело в том, что весь дневник насыщен политикой. Этот дневник ― ещё одно документальное доказательство того, что всех, кто пытается остановить ход истории, ждёт только одно ― помойка, петля и вечное проклятье народов.
Дадим же слово т. Герасимову (стиль и синтаксис дневника сохранены, все выделения жирным сделаны РП).
«18 августа 1918 г.
…Приводят всё новых жильцов в больницу, и в ужасном виде. Пока доведут до тюрьмы, выпорят нагайками, отнимут всё ценное, и у самых ворот белогвардейцы раздевают доставленного ими в тюрьму чуть не догола…
Ночью перевели из корпуса и поместили рядом со мной студента № 1. Вот его “эпопея”:
— Пока вели конные сюда, хлестали нагайками. Отобрали часы и портсигар. А у ворот раздели — сняли всё, до сапог включительно…
В соседней палате помещён молодой человек, парикмахер Оленев — тоже с прошибленной в кровь головой… Арестован по доносу. Ударили прикладом “за возражение”…
19 августа.
Появился ненадолго главный, как говорят, член следственной комиссии. На вопрос, за что арестован и долго ли будут держать в тюрьме, лаконический ответ:
— Вас расстреляют…
23 августа.
…А продавшиеся чехо-словакам и белому правительству газеты приносят блестящие известия.
В одном листке читаю приказ: при мобилизации расстреливать “на месте” отказывающихся.
В этом же номере, с позволения сказать, газеты откровеннейшее “воззвание” следственной комиссии к обывателю — доносить об укрывающихся большевиках и сочувствующих; при этом даются примеры…
3 сентября.
Новый квартирант — жертва доноса — бывший солдат, георгиевский кавалер. Доносчики обвиняют его в убийстве казака, хотя совершенно не имеют улик.
Три раза по доносу арестовывали, три раза освобождали, в последний раз выпустили на поруки и всё же вновь арестовали.
Да здравствует белая юстиция!
28 сентября.
…Кого только не забирают белые — уму помрачительно.
Вот примеры: арестована и сидит в тюрьме 60-летняя старуха, собиравшая в пригородном лесу грибы. За что: за подслушанную добровольцем-шпионом (их развелось тоже, как грибов) фразу: “В старые времена, до освобождения крестьян, лучше было”.
Или вот ещё — немой и слепой музыкант-настройщик Майер. Сначала обвинение — “был секретарём революционного трибунала”. Этот же глухо-немой и слепой “произносил (немой)! зажигательные речи”.
Просидел 1 месяц и 5 дней.
Ещё преступник: старик нищий с припадком падучей…
2 октября.
…А из города всё политические новости великой важности: Екатеринбург назначается резиденцией Уральского правительства и местом созыва Учредительного Собрания.
Наряду с этим другие известия об “усмирении людей, приверженных Советской власти”: в гостином дворе (где наскоро устроенная тюрьма) морят голодом и нещадно бьют — один из истязуемых сошёл с ума.
Шпионаж и сыск расцвели махровым цветом: к нам приставили одного старика надзирателя, специально занявшегося сыском.
В корзинах для передачи Яковлеву и Кронину он отыскал записки с воли, и в результате — лишение передачи, очень чувствительная при тюремном голодании кара.
А голод чувствовался всё острее, и по этому поводу произошёл краткий диалог одного из узников с (тюремным) врачом.
— Вы, доктор, должны вступиться. Ведь это же медленное убийство.
— Я понимаю, — лепечет смущённый д-р, — я готов бы давать и пшённую кашу, и молоко, но… бессилен.
— Как так?
— Средств нет, кредит закрыт.
Любопытная параллель: городская дума отпускает 150 000 рублей на обед и ужин Всероссийской Директории…
9 октября.
Необычный визит: делегация представителей Красного Креста, профессиональных союзов и даже политических партий.
Впускают их благосклонно уже после поверки, что по правилам не полагается. Но благосклонность начальства становится понятной после монотонной заученной речи предводителя делегации:
— …мы можем оказать помощь материальную и юридическим советом всем заключённым, кроме большевиков и левых эсеров, участвовавших в расстрелах.
Тошно слушать гг. делегатов. Но публика оживилась, рождаются надежды, вспыхивают разговоры…
18 октября.
Нового мало — Красный Крест и Ко, родивший столько надежд у маловерных, пропал без вести. Говорят, его совсем прекратили — нашли вредным.
По-прежнему волнуют вести и слухи.
Между ними слух, что всё дело следствия берут в свои руки чехо-словаки.
Вряд ли от этого станет легче.
Ещё замечательные основания для бросания в тюрьму:
1) Скрипач Виткин арестован за то, что жил против дома Полякова и кланялся М. Х. Полякову — большевику.
2) Сын раввина — Лев, за то, что ухаживал за дочерью Юровского, принимавшего участие в расстреле Николая II.
3) Артельщик Мурманских жел.-дор. — имел при себе много денег, 230 000 р. общественных сумм. Предъявил ряд договорённостей и удостоверений; не помогло, деньги отняли и самого — в тюрьму.
Ужасы рассказывают про содержание арестованных в бывш. Коммерческом собр.: три дня ни капли воды, на воздух не выпускают, клозеты не действуют.
21 октября.
…А пресловутый Красный Крест после широковещательной декларации прислал… ковригу хлеба…
Вести с воли говорят о том, что реакционные ветры в городе свирепствуют. Воздвигнуто гонение на лучшего из докторов Екатеринбурга, старшего врача городской больницы Л. В. Лепешинского, гуманнейшего человека и неутомимого работника.
В чём вина его?
В преступление вменяют обнаглевшие буржуа его выступление против их друзей-приятелей — педагогов на родительском собрании… А затем ещё обвинение его, д-ра Лепешинского: видели у памятника бывшего царя Александра II при большевистской демонстрации.
Этого достаточно, чтобы изгнать из городской больницы добросовестного врача и лишить её искуснейшего хирурга.
Даже часть обывателей возмущена, и группа их, с участием военных, подала заявление в городскую управу…
Ещё подвиги правых — удушен и разогнан союз городских служащих; разгромлен союз печатников…
24 октября.
Дали невозможный хлеб — какая-то замазка. Поднялся голодный бунт. Палата решила было вся возвратить обратно эту несъедобную дрянь. Но в решительную минуту офицер К-н разбил решение заявлением: “Протест лишь ухудшит положение”.
Большинство, однако, хлеб возвратило.
Прогулки прекращены на неделю — топят, видите ли, баню (впервые за три месяца).
Интересный приказ № 36 прочёл в местной газете: призывают граждан жертвовать бельё народной армии, а у тех, кто не пожертвует, будут отбирать силой.
Любопытное письмо прислал из корпуса т. Штеллинг. Вот существенная часть его.
“…и у нас ходят упорные слухи, со ссылками на верный источник, что бывшие красноармейцы будут на днях «выпущены» из тюрьмы и отправятся на каторжные работы в Зап. Сибирь; в качестве пунктов для отбывания каторжных работ указываются угольные копи (близ ст. «Тайга») и копи Экибастусские (в 300 врстах выше Омска, по Иртышу).
Каторжные работы в административном порядке — это далеко ушло по сравнению с царизмом…
26 октября.
…Наконец, дождался и я допроса.
Допрашивал пожилых лет товарищ прокурора Кр-в. Интересно его определение настоящего суда:
— Мы больше по впечатлению судим; если арестованный не выглядит разбойником, отпускаем…
28 октября.
К нам стали заходить воскресшие из мёртвых “чины прокурорского надзора” с вопросами “нет ли претензий, заявлений?”
Пытался поговорить о “деле”, но что можно вытянуть из этих великолепных экземпляров щегловитовской[1] школы.
Спрашиваю, например, тов. прокурора, посетившего больницу сегодня, почему держат месяцами, не предъявляя обвинения. Отчеканивает:
— Не вхожу в существо… это — дело следственной комиссии.
Раздражённый, бросаю в лицо корректному прокурору замечание, что бесчеловечно обрекать больных людей на медленное умирание в битком набитой тюрьме.
Ответ: “Таких слов говорить не надо”.
Новости с воли сосредоточиваются вокруг “верховного правителя Колчака”. Наши буржуи, обезумев от радости, прямо носят его на руках.
Говорят (и пишут) о перенесении резиденции “правителя” в Екатеринбург, и первые приготовления — это полная изоляция целого квартала, где “он” будет жить, колючей проволокой, заставами, караулами…
9 ноября.
Невыносимое состояние — быть отданным на съедение паразитам, — ни сна, ни отдыха.
И это в больнице. Что же делается в корпусе?
Светлый луч — помещение в нашу палату тов. Фокина.
Первый здесь человек с определённым миросозерцанием.
Его вера: “Россия будет большевистской”.
История его ареста кошмарна.
Он был уполномоченным по заготовке продовольствия для Красной Гвардии, жил в округе В.-Уфалейского завода, в деревне М. Нагрянули белые. Деревня была оцеплена сотней казаков. Фокина схватили, раздели и гнали 30 вёрст до станции босым и раздетым, на аркане, хлеща справа и слева нагайками.
Как только остался жив человек?
Ещё один штрих тюремной расправы: одного из заключённых в корпусе посадили на 7 дней в карцер за то, что употребил выражение “Николай Кровавый”…
10 ноября.
На свидании (первом для меня) с Н. узнал, наконец, что похоронен ещё на три месяца в тюрьме. Без зачёта, конечно, предшествующих 3½ месяцев.
Характерен ультиматум, объявленный Н. в следственной комиссии на просьбу выпустить меня на поруки, как тяжко-больного:
— Если бы 20 докторов доказали нам, что его надо выпустить, всё равно, не освободили бы.
Ещё сообщение из серии: “За что арестуют”: один парень посажен в тюрьму за то, что плакал по отце, утопленном в Исети…
30 декабря.
…Укрепился и развернул во всю ширь свою власть Колчак. Соответственно этому явлению растут чувства благодарной буржуазии и “на всё готовой” пресмыкающейся печати.
Из газет узнаём, что биржа чествовала адмирала торжественным собранием, и председатель биржевого комитета П. Иванов преподнёс Колчаку 1½ миллиона золотом “в изящном ларце из самоцветов и уральских камней”.
По всей территории неудержимое стремление на попятный двор, к вершинам монархизма: учреждено колчаковцами “особое отделение по охранению общественного порядка”, т.е. та же охранка, уволено “за вольномыслие” несколько классов Тобольской гимназии; жестоко усмиряются (в Томске розгами) рабочие забастовки, происходит удушение профессиональных союзов и реставрируются генерал-губернаторы (“управляющие губерниями”)…
Постепенно разъяснилось, что подсаженный в палату “интернационалист” Вильгельм-Герман, владеющий итальянским языком и большой развязностью, имеет определённую миссию — доносить по начальству, что у нас в палате делается и кто что говорит.
Почву для подозрений создали неискусные приёмы самих тюремщиков: не раз Вильгельма вызывали для неизвестных целей в контору после поверки, тогда как обыкновенно до утра двери камер не открывались ни для кого.
На вопросы — зачем вызывали в неурочное время, Вильгельм давал сбивчивые ответы, судорожно хохотал, и это ещё более усиливало подозрения.
Прибавилась ещё недобросовестная игра Вильгельма в карты (“обставить новичка”) и хамство, соединённое с трусливостью. И судьба Вильгельма решена — его, видимо, будут бойкотировать.
Не раз после вызовов его в контору делались обыски.
6 января 1919 г.
Надвинулась давно ожидаемая гроза — сыпной тиф.
Заболевают десятками в корпусе, не мало жертв и в больнице.
Принимаются домашние меры — удивительно нелепые — по части дезинфекции палат: из палаты, подлежащей дезинфекции, больные со всем их скарбом, лохмотьями и тряпками переселяются в какую-либо другую палату; за неимением коек помещают больных на полу между кроватями, чуть ли не под кроватями.
Получается невероятная духота и теснота — вставши со своей койки, боишься наступить ногой на живого человека. Кажется, лучшего средства для усиления эпидемии не придумаешь…
И ещё новость ― книги с воли отсылаются к прокурору.
Раньше не требовалось.
Наряду с этими попечениями о нравственности заключённых, тюрьма превращена в какое-то забытое учреждение: третий день уже не топят печей ― нет дров.
В результате медленное замерзание больных. Пальто, шуба, шапки и калоши ― обычный в палате костюм, так и спим.
Уже второй месяц не платят жалованья надзирателям ― это их озлобляет, а злобу они срывают на нас.
23 февраля.
…Сыпной тиф разгулялся, празднуют пир и другие болезни, и приходится переживать тяжёлые ночи в палате № 1…
25 февраля.
Трагической становится история “лягавого” Вильгельма.
Палата единодушно решается избавиться от него и просит доктора Тагильцева удалить Вильгельма.
Доктор даёт соответствующее распоряжение, и старший надзиратель предъявляет к Вильгельму требование: во время дезинфекции нашей палаты и временного переселения нашего в № 3, Вильгельму перейти в палату № 4.
Но Вильгельм, потерявший прежний апломб, боится других арестантов — слава о его предательстве разнеслась по всей больнице, — и он отказывается перейти в другую палату.
— Убьют.
И, несмотря на общее негодование и явное отвращение, плетётся за нами в № 3, где ему приходится спать на полу, а затем возвращается в прежнюю палату № 1.
Отныне удел его — удел отверженного. Общее презрение и страшный бойкот. Ни единого слова с ним, точно человек умер.
Захватила доносчика болезнь, может быть, к счастью для него, но ни у кого нет в мыслях чем-нибудь помочь “лягавому”.
Даже добродушный крестьянин Худяков, отзывавшийся на всё, отказывается помочь являющемуся его соседом Вильгельму.
— “Ничего не хочу давать тебе”, отвечает он на его просьбы.
— “Вот товарищи говорят — провокатор ты, предатель, не обращайся ко мне”…
Вильгельм пускался в плаксивые объяснения. В ответ — зловещее молчание и резкая отповедь.
26 февраля.
Вести о товарищах по несчастью. Штеллинга выслали в Туринск, Фокина эвакуировали в партии куда-то в уездную тюрьму, но дорогой он бежал.
Определённо говорят, что больше половины эвакуированных не доходят до места назначения — по дороге расстреливают.
Извёл умирающий доносчик Вильгельм. Какое-то органическое отвращение возбуждает его вид… Не хочется смотреть в его сторону. И он сам, будто чувствуя это общее презрение, гадливость к нему, вечно закутанный с головой в казённое одеяло лежит неподвижно. Иногда что-то пробормочет… Наконец, вчера ночью — вечное молчание — смерть. Никто не заметил её. Утром труп предателя вынесли. Все вздохнули свободней.
Ни в одной из тюрем царских не наблюдал такого откровенного “подсаживания” шпиона. Исполать колчаковцам.
27 февраля.
Сегодня привели в больницу (сам ходить не может) жестоко изувеченного и израненного человека — заведующего комиссариатом юстиции Алапаевского района Е. А. Соловьёва.
В ручных и ножных кандалах, бесчеловечно исполосованного при аресте нагайками по приказанию пьяного офицера.
Долгое время лежал мученик на койке, не двигаясь; на теле видны глубокие рубцы от сечения нагайками с вплетёнными в них проволоками…
Страшно смотреть.
Вот его рассказ о себе, записанный мною дословно под его диктовку.
Рассказ Г. А. Соловьева
“Геннадий Андреевич Соловьев – житель Нейво-Алапаевского завода, 44 лет, мастеровой.
Таскают по тюрьмам с 1903 года, после 1905 года был в ссылке…
В время первого переворота (в 17 г.) был избран начальником милиции, заведывал 12-ю волостями; не прерывая своей работы, перешёл в Совет, был членом исполкома Алапаевского районного совета, заведывал Комиссариатом Юстиции до вторжения белогвардейцев.
Остался в лесу на конспиративной квартире для работ в тылу, но был обнаружен казаками, почему и бежал в Бийск, где арестован 12 октября.
Отправлен в Омскую тюрьму — просидел 11/2 месяца; увезли в Алапаевск, якобы для допроса по обвинению в убийстве великих князей Романовых. Допрашивал член окружного суда Сергеев; следственная комиссия после того избила нагайками… В первый день Рождества привели сюда больного, избитого, посадили в карцер, держали трое суток, а потом — в больницу…”
Закован по рукам и ногам.
Вид его ужасен.
Выживет ли..?
1 марта.
Кажется, бумаги не хватит, чтобы увековечить все “подвиги” колчаковцев. Мой новый сосед по койке, Сергеев, мастер Уткинского завода, рассказал следующее: “Нагрянув на завод, белогвардейцы расхитили всё моё имущество, меня арестовали, отвезли в Екатеринбург и заперли сначала в б. Коммерческом собрании.
Жена моя обратилась к коменданту с вопросом о причине моего ареста и с протестом против расхищения вещей.
В ответ на это г. комендант закатил моей жене две пощёчины. Без всяких объяснений… Что же это такое?
— Мне эти две пощёчины, — закончил свой рассказ негодующий Сергеев, — больнее, чем потеря всего имущества.
Но я с ними так не расстанусь. Увидимся на воле, припомню всё.
…В доходящих до нас (контрабандой) газетах постоянные сообщения о восстаниях и партизанских набегах и о “жестоком усмирении банд”.
Иного слова кроме “банда” газетчики не находят для ведущих партизанскую войну.
Но хохот идёт в палате, когда тут же читают, что “банда” численностью до 500 человек, что у неё имеются пулемёты и даже солидные орудия…
По-прежнему, кажется, с усиленным азартом в последнее время, приканчивают арестованных без суда и следствия.
Вот достойный истории диалог между начальником тюрьмы и вождём белогвардейцев, приведших партию арестованных в застенок.
— Вы привели не всех заключённых по препроводительной бумаге, а двумя меньше, где же они?
— Отправлены в земельный комитет!
2 марта.
Убийственная эпоха тюремной жизни ― распространение сыпного тифа.
Сами охранники создали его (переполнение тюрьмы, грязь, голодание, необычайно редкие бани), но мало беспокоились, пока “сыпняк” не перекинулся в город и стал угрожать буржуазии.
Тогда ударили в набат и стали принимать “экстренные меры”, но одна нелепей другой; например, перегонка больных на время дезинфекции палаты в соседнюю, в которой создаётся теснота, доводится до того, что половина больных спит на полу, некоторые у “параши” (ведра с нечистотами).
Врач Тагильцев заболел сам (месяца два не ходит), и в самый разгар эпидемии мы без врача.
В половине февраля стал появляться (с крайне короткими визитами) д-р Упоров, чтобы ― его слова ― “ловить сыпняк”.
А он косит жертвы направо и налево…
3 марта.
Для спасения от тифа буржуазии прибыл тюремный инспектор (Блохин) и принял сверх-экстренные меры дезинфекции. От одной из них мы чуть не отправились на тот свет.
Смертельная дезинфекция.
Иначе не могу назвать то, что было проделано с нами минувшей ночью. Были на волоске от смерти.
История такова: приказано нашей палате на время дезинфекции переселиться на ночь в соседнюю пустую амбулаторию ― комнату без коек и без всякой мебели. Перспектива спать без тюфяков, подушек, на грязном полу казалась отвратительной, поэтому многие, в том числе и я, решили не спать и примостились кое-как на поверженном на пол громадном шкафу.
Но бороться со сном, должно быть, не хватило сил, и пришлось уступить “реальной действительности” ― разместились часов около трёх ночи на полу и начали засыпать.
В палату нашу, где оставлено было всё для дезинфекции, поставили знакомый нам аппарат: жаровня с горящими углями и с насыпанной сверху серой: пары её и должны были продезинфицировать палату со всем её содержимым.
Предварительно все оконные рамы и дверь палаты заклеили бумагой, чтобы убийственные газы не проникли в жилые помещения. Итак, мы залегли спать на шкафу и грязном полу. Но что это значит? Сквозь дремоту слышу тревожные, отрывистые крики, многие вскочили. И в то же время чувствую, что дышать нечем ― что-то едкое жжёт нос и горло…
К нам валит серный газ, мы отравлены им и задыхаемся.
Кошмарная картина: кто мечется в угаре из угла в угол, другие бросаются лицом на пол, надеясь, что газа внизу нет. Напрасно ― дышать нечем. Один из больных неистово дубасит по стенам, в дверь коридора с криком:
— Дежурный! Отворите! Мы отравлены, задыхаемся!
Но тщетно, дверь наглухо заперта, и дежурный, как потом оказалось, сам валялся в коридоре без чувств. Газы всё гуще. Ещё минута-другая, и мы погибнем. Одно спасение ― открыть, в крайнем случае ― разбить окно, но оно страшно высоко.
Кое-как, по спинам товарищей карабкается один из нас к решётке окна и палкой открывает маленькую форточку. Врывается свежий воздух ― спасены! Но надо скорей уйти отсюда… Через окно зовём, рискуя расстрелом, старшего.
Он является, но сам, наглотавшись в коридоре серы, начинает буквально кружиться волчком у окна, и остаток ужасной ночи проводим в хандре, без сна.
Как выяснилось утром, вся эта дикая история произошла от распоряжения старшего надзирателя ― после двух часов ночи “немножко приоткрыть дверь палаты № 1”. Чтобы “выходили газы”…
Очевидно, младший понял это “немножко” по-своему.
4 марта.
Испытание водой
На другой день новое испытание ― баня. Конечно, прекрасная вещь баня, но с кошмарными “особенностями” была она преподнесена нам…
Высшей тюремной инстанцией решено: вести всех больных в баню (через двор, саженей 30) без верхнего платья, без калош и шапок, а возвращаться из бани в одном белье (вся одежда отдаётся в дезинфектор), прикрываясь лишь казёнными одеялами. И это когда ещё на дворе лежит снег и день морозный, ветреный. Прихожу в ужас. Беседую с чинами тюремной инспекции и прошу, как и другие, сделать исключение для тяжко больных, которым угрожает простуда и, может быть, смерть.
Неумолим и непреклонен:
— Для интересов большинства нельзя принимать во внимание отдельных лиц.
— Тогда могу отказаться от бани?
— Нет, не можете, все должны итти.
И вот эта каторжная баня. Набивается, как бочонок сельдями. 2½ часа ждёшь горячей воды, одеваешься на холодном асфальтовом полу. А обратное шествие… нет, бег раздетых, разгорячённых людей по снегу, на морозе. Жалкие одеяла развеваются и нисколько не спасают от холодного ветра.
Добрались кое-как до палаты, но и здесь сюрприз. Койки без тюфяков и подушек ― ложитесь на койки. Будь ты проклята, заботливость начальства!…
5 марта.
Налицо ближайшие результаты “испытания водой”: простуда почти у всех, хронический насморк, кашель, у иных болит грудь… А тиф косит и косит. Едва успевают готовить гробы и отправлять в барак-изолятор (во 2-й женской гимназии).
Волнует всю тюрьму весть о лишении передач на неопределённое время. Тоже из области экстренных мер.
А политика по-прежнему врывается сквозь туго завинченные двери. Знакомимся с речами Колчака и ответными приветствиями. Банкеты и парады следуют один за другим.
А наряду с этим тревожные симптомы: сокрушительный приказ о дезертирах, “беспощадный расстрел”, “конфискация имущества укрывателей”. Пополняют спешно белую армию: объявлена мобилизация до 45-летнего возраста, сбор 18 000 лошадей, 6 тысяч повозок и т.д. И всё под страшными угрозами за невыполнение.
10 марта.
…Как расправились в селе Б. Мостовская с крестьянином-стариком, кандидатом в Совет.
Когда белые вошли в деревню, шла баллотировка в Совет, сын старика работал в поле. Узнав о приближении белых и чуя гибель сына, старик побежал предупредить парня, и тот бежал.
Белые, проведав это, решили старика расстрелять, но раньше приказали ему рыть для себя могилу. Начал, но не успел вырыть всю, ― “герои” выпустили в грудь старику залп из винтовок.
11 марта.
Исторический приказ: в газетах объявляют об отказе в выдаче мобилизованным удостоверений о том, что они не по своей воле идут в ряды “народной армии”.
Видно, донимают просьбами об этих удостоверениях.
Второй приказ ― это уже “начало конца”: в Тюмени восстание мобилизованных.
Приказ гласит о “безобразиях” 150 новобранцев и повелевает усмирить их “самыми жестокими мерами” ― “расстрелять виновных на месте без всякого суда”.
Одновременно с этим нам передают, что в Екатеринбурге до 5000 арестованных новобранцев, бежавших из рядов славной “народной армии”…
18 марта.
…В нашей палате давно уже находится некто Версиков, тихий, незаметный сельский учитель. Перенёс благополучно сыпной тиф.
Определённого обвинения к нему не предъявлено, ― “распространял вредные идеи”.
И вот 18 вечером, после проверки, часу в 10-м Версикова вызывают в контору вести в город на допрос. Сразу мрачная тень подозрения ложится на душу: ночью на допрос…
И подозрение оправдывается: Версикова уводят из корпуса с 4 конвойными с шашками наголо, но обратно не приводят…
Позже узнаём, что в контору прислали лишь казённое платье Версикова (какая аккуратность), самого же его расстреляли по дороге.
Якобы вздумал бежать от конвоя (4-х вооружённых), в него стали стрелять и убили.
Давно уже знакомая и всем понятная версия…
31 марта.
…В газетах гг. “услужающие пером” всё подбадривают обывателей, но… наряду с “славься” приказ: не распространять вздорных слухов “об армии, в чём замечены и гг. офицеры”.
Угрожают расстрелом.
2 апреля.
Для иллюстрации ― кого забрали белые: сегодня освободили 69-летнего “революционера”, едва передвигающего ноги Левитского, брошенного в застенок неизвестно за что. Лежал день и ночь, и всё умолял врача: “не дайте помереть здесь”. Умолил…
22 апреля.
Удивительную и умилительную картину представляет из себя палата № 1 ― уголок “крамольной” тюрьмы в пасхальную ночь: православные, в том числе и молодой анархист, убрали икону гирляндами, зажгли лампадку, свечи, и во время заутрени усердно молятся.
Как это не похоже на пасхальную ночь в саратовской тюрьме (в арест. ротах), когда в соседней камере, набитой крестьянами-аграрниками, грянула в полночь “Крестьянская марсельеза”, а у нас ответили песней: “Отречёмся от старого мира”…
Здесь, впрочем, этого нечего было и ожидать: человеческий винегрет.
Когда молитвословия кончились, М-в произнёс, обращаясь ко всем, импровизированную речь на тему о “терпении и энергии”.
В ответ на это раздалось иное слово: “будем бороться и верить в свой народ, в освобождённый пролетариат. И дождёмся своего воскресения и новой свободной России”.
23 апреля.
…Сегодня привели в тюрьму 5 арестованных… чехо-словаков.
Нравится ли вам этот финал? ― как шутил Чехов.
24 апреля.
…по ночам слышны где-то близко одиночные и залпом выстрелы.
— Всё стараются… Расстреливают, ― замечает кто-нибудь в полусне.
Сегодня нам было показано ни с чем несравнимое представление ― как разыскивать нужного для расстрела человека.
В середине дня мы услышали шум чьих-то шагов по коридору, затем дверь распахнулась, причём отворивший её надзиратель имел весьма услужливый вид, и мы увидели на пороге живописную группу: два юных франтоватых золотопогонника и между ними грубо накрашенная и ярко одетая девица в громадной шляпе, украшенной цветами, и с тросточкой в руках.
Некоторое время безмолвно осматривает палату.
— Ну, что же, ― обращается один из офицеров к накрашенной девице, ― не находите кого нужно?
Следует отрицательный ответ, хохот, восклицание золотопогонника: “Поищем в другом месте” ― и дверь с треском захлопывается.
С помощью старожилов и того же надзирателя скоро получаем разъяснение:
— Это известная многим любовница купца Топорищева… По личной её злобе сюда посадили одного, что сгрубил ей что-то, и вот теперь разыскивает для расстрела чтобы.
— И разыщет, коли друзья помогают…
Что к этому прибавить?
26 апреля.
Хочется отравить ещё единственную отраду ― прогулки: приказано водить шеренгой, попарно… Невзирая на то, что есть больные, с трудом двигающиеся.
От каторжных прогулок отказались, на 3-й день их отменили.
…Кстати о газетах: белое правительство, предающее анафеме большевиков за разгром “свободной” (читай кадетской) печати, само весьма усердно душит свои газеты.
Даже в кадетских “Отеч. Ведомостях” попадаются пробелы; а вот № 5 “Урала” (демократическая областная газета, издаваемая кооперативным издательством) зияет пустыми местами; вторая страница наполовину пустая: вместо передовой ― пустое место. Перепечатка из “Чешско-словацкого дневника” обрывается в начале. “Обзор печати” с полемикой против “Отеч. Ведомостей” за их расшаркивание перед властями, ― без конца — снова пустое место.
5 мая.
…Совершенно николаевское объявление во вчерашнем № “Отеч. Ведомостей”: за обнаружение тайной организации коммунистов 8 человек расстреляно, и лишь двое, в виде особой милости, приговорены к каторжным работам.
Вообще, насчёт расстрелов щедры, как ни на что другое.
Видимо, расстрел ожидает “красного фельдшера”, лежавшего в нашей палате, ― Иванова.
И это до глубины души возмущает всех, даже ко всему равнодушных.
И в самом деле, Иванов (фельдшер сельской больницы, арестован за сочувствие большевикам и участие в Совете), как фельдшер принёс тюрьме гораздо больше пользы, чем казённый фельдшер, пресловутый “Кузьмич”, поглощённый частной практикой и расхищением тюремных лекарств… Иванов по целым часам работал в аптеке, помогая составлять лекарства, посещая больных в корпусе, и прямо самоотверженную деятельность проявил при сыпном тифе. В то время как Кузьмич, струсив, даже не решался заходить в камеры, где оказывались охваченные сыпняком, Иванов, рискуя собой, проникал всюду и чуть ли не на своих плечах выносил больных тифом на ожидавшую их к отправлению в барак подводу.
И великодушие его доходило до того, что он лечил как мог и, может быть, спас от смерти нескольких надзирателей.
Кажется, даже оказал помощь одному из помощников начальника тюрьмы.
И вот этого человека включили в партию подлежащих эвакуации… А мы знаем, что это значит…
7 мая.
…Вместе с другими смертниками его расстреляли… Поблагодарили…
8 мая.
…В Тюмени повелено расстрелять 18 “по обвинению в тайной и активной большевистской организации”.
Расстрелы за принадлежность к политической партии…
идти некуда. Даже “Отеч. Ведомости” встревожились и бормочут в передовой: “Не слишком ли гг. усердствуете?”…
10 мая.
…Запоздавшее, но поучительно-характерное для колчаковщины сообщение: в первые дни арестов во временные женские тюрьмы (в гостином дворе и в 1-й полицейской части) ночью врывались казаки и хулиганы-студенты и чинили насилие над женщинами. Расследования не было…
23 мая.
Что-то там за каменными стенами творится ― видимо идёт “последний и решительный бой”. В этом признаются даже “Отеч. Ведомости”… “На западном фронте мы в тисках”. Расписываются в неудаче белых, и тут же: “дни большевизма сочтены”. 300 дней, однако, прошло, как “дни сочтены”…
29 мая.
…С воли сообщают из лагеря белых всё “о последних днях большевиков”, а наряду с этим ― показатели разрухи в их стане, как приказ, например, гласящий, что “у изменников-солдат, перебежавших к красным или добровольно служащих им, будет отбираться всё имущество и передаваться солдатам, оставшимся верными “временному правительству”.
5 июня.
…Устал я, и тяжело записывать рассказы об истязаниях, пережитых заключёнными… Но занесу в “анналы”, может быть, последнее повествование.
Рассказчик ― рабочий Дм. Полетаев из Кунгура.
Составлял я ему прошение уполномоченному по охране. И вот передо мной красноречивый документ, смоченный кровью и слезами:
“С начала арестовали меня на 8 суток, но за недоказанностью обвинения выпустили. На второй день рождества на квартиру явилось 6 офицеров из армии Колчака, приказали одеться, вывели во двор и там избивали плетями до потери сознания.
Дома оставались жена и трое детей ― младшему 2 года ― и слышали мой рёв; младший сынишка забрался под кровать. Жена была вне себя… Когда я, весь избитый, на корточках вполз в комнату, вижу: жена схватила нож и хочет убить себя.
Не вырви я у ней в эту минуту нож, было бы… Посейчас не знаю, что с семьёй ― 10 писем без ответа.
Избитого Полетаева оставили было дома, но в канун нового года снова нагрянули. Обыск, забрали всё имущество, и жену П-ва “оставили в одной юбке”. Затем самого П-ва отправили в часть, а через несколько дней ― в Екатеринбургскую тюрьму…
9 июня.
…Газеты с большими пробелами ― видно, есть, о чём молчать. Зато чётким шрифтом напечатано сообщение из Омска о суде над 17-ю гражданами, виновными в принадлежности к партии коммунистов. Приговор: 11-ти смертная казнь…
17 июня.
Из газетной информации знаменательное “воззвание” к красным, с обещанием “при добровольном к белым переходе ― полного прощения”, даже более того…
23 июня.
Скрывать правды больше нельзя, хотя по-прежнему “просят не верить”; из Екатеринбурга бегут. Город разгружается, войска ― по слухам ― размещены по окраинным деревням. А красные уже близки к Перми…
6 июля.
Много событий “за стеной” за эти дни: красные надвигаются, взяли Пермь и Кунгур.
Печально завыли, с позволения сказать, газеты. Спешат пересматривать наши дела. Екатеринбург теперь ― взбаламученное море…
8 июля.
На прощание колчаковская юстиция устроила нам “передопрос”, на манер средних веков, под открытым небом.
На прогулочном дворе поставлен ряд столов, за которыми важно заседали судьи (между ними не мало юнкеров-золотопогонников). Нас вызывают целыми партиями, и по 5–6 человек допрашивают с редкой быстротой.
К чему эта комедия?…
10 июля.
Как и надо было ожидать, она была ни к чему ― ни вчера, ни сегодня допрос под открытым небом не возобновлялся и никаких практических результатов вчерашнее заседание не имело, хотя многим обещали освобождение.
Да и до того ли им теперь, когда наши спасители ― красные ― с каждым днём всё ближе к Екатеринбургу.
Затревожилось тюремное начальство: из окон видно, как повсюду нагружают “делами”, шнуровыми книгами и прочей дрянью тюремной конторы. Очевидно, собираются бежать…
Последние дни.
(12, 13 и 14 июля).
…До последней минуты над головами нашими висел вопрос: оставят ли в живых до прихода красных, или…
А основания опасаться были: “высшее” тюремное начальство бежало и оставило нас на попечение старика-привратника и нескольких надзирателей из молодых, ― старые “менты” убрались с начальством…
Днём 13-го пронёсся слух, что задержавшиеся в Екатеринбурге белые будут ночью брать из тюрьмы “по своему списку” политических на расстрел…
Что предпринять?
Совещались и решили: так как пропуск в тюрьму теперь всецело зависит от привратника, на попечение которого оставлена вся тюрьма, то решили просить его не впускать самозванцев и дать взятку.
Собрали 500 руб. (для тогдашнего времени это были большие деньги) и пригласили.
Переговоры кончились успехом: обещал не пускать…
С облегчённым сердцем увидали брезжущий рассвет.
Утром узнали, что опасность была и миновала.
Какая-то компания убийц ночью явилась, стучала у ворот и требовала впустить их, чтобы взять политических по имеющемуся у них списку.
Но мудрый привратник нашёлся ответить, что начальник тюрьмы не оставил ему списка заключённых, и он совершенно не знает, кто уголовный, кто политический, и на свою ответственность выдачу заключённых по непроверенному списку не возьмёт.
Это спасло нас.
Жаждавшие новых жертв поругались у ворот и ушли.
“Товарищи, вы свободны!”.
Эти дорогие слова мы услышали в следующую ночь ― 14 июля 1919 года.
День этот весь прошёл в волнении и в радостном ожидании идущей к нам на выручку Красной Армии.
У белых наблюдалась полная деморализация.
С утра к тюрьме приставили было какой-то новый караул, но через несколько часов его сняли и оставили нас в ведении надзирателей.
Среди них преобладала молодёжь, видимо, тоже ожидавшая красных с добрым чувством…
Белые протащили мимо тюрьмы и поставили на пригорке у кладбища несколько орудий ― обстреливать большевиков.
Но не надолго хватило воинской доблести у белых командиров: прослышали, что в городе грабят универсальный магазин Агафурова, плюнули на всё, бросили орудия и поспешили в город принять “посильное участие” в грабеже…
В палате царила полнейшая тишина ожидания. Но вот со стороны Верх-Исетского завода слышу ликующий звон колоколов и затем бурное “ура!”.
— Они вошли, они здесь!
Как электрическая искра, обегает эта мысль всех. Чей-то звучный голос из окна кричит:
— Товарищи, красные пришли… Да здравствует Красная Армия. Ур-ра!…
Поминутно спрашивают молодого надзирателя, шагающего по двору:
— Ну что? Не пришли ещё? Не слышно?
И вот, наконец, голос снизу:
— Пришли, в корпусе сейчас.
Проходит ещё несколько минут ― как долго тянутся они ― и мы слышим шум шагов и оживлённые голоса.
Гремит запор, широко отворяется дверь, и в палату входят, сопровождаемые надзирателем, четверо красноармейцев.
Запылённые, утомлённые, в поту.
— Товарищи, вы свободны, ― звонким голосом объявляет нам стоящий впереди молодой красноармеец, видимо, начальник маленького отряда.
Горячее “ура”, крики “спасибо”. “Спасли вы нас”…
И просьба ко мне:
— Скажите им от нас приветствие.
Отказываюсь, но настоятельно просят.
Взволнованный, с сильно бьющимся сердцем, говорю…
— Приветствую красных орлов… Давно ожидали мы их прилёта и твёрдо верили, что никакие преграды не остановят их. Многие испытания перенесли мы от белых, но испытания закаляют борцов. Теперь будем помогать общему великому строительству.
Спасибо, дорогие товарищи, вы воскресили нас из мёртвых…
Снова бурное “ура”. Рукоплескания, поцелуи.
Начальник отряда хочет отвечать.
— Товарищи, ― начинает он, ― не за что нас благодарить. Мы лишь исполняем свой долг, мы сами спешили сюда, чтобы негодяи вас… не замучили…
Тут голос юноши дрогнул, срывается, и он… плачет…
Один за другим падают ржавые запоры тюремных камер, визжат на петлях проклятые двери, и всюду всем несём мы весть:
Товарищи, вы свободны!..
Обошли всю тюрьму ― все двери открыты; тт. красноармейцы уходят в город, рекомендуя пока что самим устанавливать порядок в тюрьме…
Сейчас же у главного входа во дворе организуется митинг. Избирается председатель, ставящий вопросы, и между ними: “как быть с уголовными?”…
Выхожу за ворота… Какое это великое непередаваемое чувство свободы после почти года проклятого застенка.
И первое, что вижу, ― громадное зарево, языки огня и клубы дыма над пассажирской станцией; это ― последнее “славное дело” негодяев-белогвардейцев.
Подожгли вагоны с ценным грузом и вагонные мастерские…
Присматриваюсь, различаю в темноте длинный ряд орудий, лошадей, верховых.
Это красная артиллерия вступает в Екатеринбург.
Добро пожаловать, милые, родные…
Уже совсем рассвело, когда я, нагруженный своими вещами, покидаю застенок.
Легко и свободно дышится.
Из-за крутого холма показывается солнце и радостным светом заливает взборождённую равнину.
Путь новой светлой жизни озаряет животворящее солнце…».
На этом дневник Герасимова заканчивается
***
Что стоит добавить в конце, учитывая нынешние нравы?
Если кто-то из наших читателей увидел в этих записях черты сегодняшнего дня или возможные события дня завтрашнего, то это, конечно, чистое совпадение, за которое т. Герасимов ответственности не несёт.
Во-вторых, редакция надеется, что добропорядочные читатели наши есть люди грамотные и умные, и они сами сделают все нужные выводы из дневника.
В-третьих, если среди наших читателей всё же сыщутся легкомысленные элементы, то будет разумно привести им две цитаты из одного бессмертного произведения.
Цитата первая, начальная:
«Глупов, беспечный, добродушно-весёлый Глупов, приуныл. Нет более оживлённых сходок за воротами домов, умолкло щёлканье подсолнухов, нет игры в бабки! Улицы запустели, на площадях показались хищные звери. Люди только по нужде оставляли дома свои и, на мгновение показавши испуганные и изнурённые лица, тотчас же хоронились. Нечто подобное было, по словам старожилов, во времена тушинского царика[2], да ещё при Бироне, когда гулящая девка, Танька Корявая, чуть-чуть не подвела всего города под экзекуцию. Но даже и тогда было лучше; по крайней мере, тогда хоть что-нибудь понимали, а теперь чувствовали только страх, зловещий и безотчётный страх.
В особенности тяжело было смотреть на город поздним вечером. В это время Глупов, и без того мало оживлённый, окончательно замирал. На улице царили голодные псы, но и те не лаяли, а в величайшем порядке предавались изнеженности и распущенности нравов; густой мрак окутывал улицы и дома, и только в одной из комнат градоначальнической квартиры мерцал, далеко за полночь, зловещий свет. Проснувшийся обыватель мог видеть, как градоначальник сидит, согнувшись, за письменным столом и всё что-то скребёт пером…
И вдруг подойдёт к окну, крикнет “не потерплю!” ― и опять садится за стол и опять скребёт…
Начали ходить безобразные слухи. Говорили, что новый градоначальник совсем даже не градоначальник, а оборотень, присланный в Глупов по легкомыслию; что он по ночам, в виде ненасытного упыря, парит над городом и сосёт у сонных обывателей кровь. Разумеется, всё это повествовалось и передавалось друг другу шёпотом; хотя же и находились смельчаки, которые предлагали поголовно пасть на колена и просить прощенья, но и тех взяло раздумье. А что, если это так именно и надо? что, ежели признано необходимым, чтобы в Глупове, грех его ради, был именно такой, а не иной градоначальник? Соображения эти показались до того резонными, что храбрецы не только отреклись от своих предложений, но тут же начали попрекать друг друга в смутьянстве и подстрекательстве»[3].
Цитата вторая, финальная:
«…А Угрюм-Бурчеев всё маршировал и всё смотрел прямо, отнюдь не подозревая, что под самым носом его кишат дурные страсти и чуть-чуть не воочию выплывают на поверхность неблагонадёжные элементы. По примеру всех благопопечительных благоустроителей, он видел только одно: что мысль, так долго зревшая в его заскорузлой голове, наконец, осуществилась, что он подлинно обладает прямою линией и может маршировать по ней сколько угодно. Затем, имеется ли на этой линии что-нибудь живое, и может ли это “живое” ощущать, мыслить, радоваться, страдать, способно ли оно, наконец, из “благонадёжного“ обратиться в “неблагонадёжное” — всё это не составляло для него даже вопроса…
Раздражение росло тем сильнее, что глуповцы всё-таки обязывались выполнять все запутанные формальности, которые были заведены Угрюм-Бурчеевым. Чистились, подтягивались, проходили через все манежи, строились в каре, разводились по работам и проч. Всякая минута казалась удобною для освобождения, и всякая же минута казалась преждевременною. Происходили беспрерывные совещания по ночам; там и сям прорывались одиночные случаи нарушения дисциплины; но всё это было как-то до такой степени разрозненно, что, в конце концов, могло самою медленностью процесса возбудить подозрительность даже в таком убеждённом идиоте, как Угрюм-Бурчеев.
И точно, он начал нечто подозревать. Его поразила тишина во время дня и шорох во время ночи. Он видел, как с наступлением сумерек какие-то тени бродили по городу и исчезали неведомо куда, и как с рассветом дня те же самые тени вновь появлялись в городе и разбегались по домам. Несколько дней сряду повторялось это явление, и всякий раз он порывался выбежать из дома, чтобы лично расследовать причину ночной суматохи, но суеверный страх удерживал его. Как истинный прохвост, он боялся чертей и ведьм.
И вот однажды появился по всем поселённым единицам приказ, возвещавший о назначении шпионов. Это была капля, переполнившая чашу…
…Через неделю… глуповцев поразило неслыханное зрелище. Север потемнел и покрылся тучами; из этих туч нечто неслось на город: не то ливень, не то смерч. Полное гнева, оно неслось, буровя землю, грохоча, гудя и стеня и по временам изрыгая из себя какие-то глухие, каркающие звуки. Хотя оно было ещё не близко, но воздух в городе заколебался, колокола сами собой загудели, деревья взъерошились, животные обезумели и метались по полю, не находя дороги в город. Оно близилось, и по мере того как близилось, время останавливало свой бег. Наконец, земля затряслась, солнце померкло… глуповцы пали ниц. Неисповедимый ужас выступил на всех лицах, охватил все сердца.
Оно пришло…
В эту торжественную минуту Угрюм-Бурчеев вдруг обернулся всем корпусом к оцепенелой толпе и ясным голосом произнёс:
— Придёт…
Но не успел он договорить, как раздался треск, и бывый прохвост моментально исчез, словно растаял в воздухе.
История прекратила течение своё.
Конец»[4].
Подготовил: М. Иванов
[1] Имеется в виду И. Щегловитов, «Ванька-каин», царский министр юстиции, отъявленный мракобес и реакционер. — Прим. РП.
[2] Имеется в виду «тушинский вор» Гришка Отрепьев. Прим. РП.
[3] М.Е. Салтыков-Щедрин. История одного города. – М.: Дет. лит., 1981, стр. 27, глава «Органчик».
[4] М.Е. Салтыков-Щедрин. История одного города, стр. 203-204.
Не падать духом товарищи.
Вот такую бы правду в массы!
Да, впереди великие дела и события. Ну что же, не мы, так наши потомки будут жить счастливой свободной жизнью — и то хорошо!
Самонадеянность и мечтательность это враги пролетариата. Впереди кровь, смерть, предательства, ошибки и поражения. Или вы думаете буржуазия по первому требованию все принесёт на блюдечке и сдастся?
А как можно быть беспартийным большевиком? Это что за зверь неведомый? Если человек – большевикс то он должен состоять в партии. Обязательно. Или не стоит называть себя так громко. Даже не смотря на заслуги.
«А как можно быть беспартийным большевиком? » — Запросто. Членство в партии не делает человека автоматически большевиком. Человек может попасть в партию случайно, может двурушничать, прикидываясь своим и имитируя бурную деятельность. Может преследовать какие-то личные цели, в том числе и амбициозного характера, стремясь попасть в ряды партии. Может попасть в партию, посчитав это модным и т. д. Наконец, он может попасть в партию по соображениям подрыва партии изнутри. Такие рвутся вперёд, руководствуясь принципом «если не можешь предотвратить, возглавь». Это чуждые партии люди, от вступления которых в партию сложно застраховаться. Партия должна чистить свои ряды от чуждых ей элементов через механизмы критики и самокритики, действующие на всех уровнях, а также принимая во внимание критику со стороны беспартийных товарищей. Это одна сторона медали. Другая — с уже партийными людьми. Они тоже могут резко снизить свою активную жизненную позицию, почить на лаврах или, что того хуже, сгруппироваться с такими же, как они, в сообщества, покрывающие друг друга. От таких втрое сильнее обычного партия должна очищаться, прислушиваться к голосу беспартийных активистов. Иначе партии смерть.
Что касается беспартийных большевиков — такое явление очень частое в отсутствии партии. Готовые вступить в партию коммунисты есть, а площадки для их объединения уже нет, как это было, например, в позднесоветский период, или ещё нет, как это имеет место сейчас. Кроме того, надо иметь в виду, что человек — это не высеченный из камня монолит, не изменяющийся со временем. Человек может уже созреть для вступления в партию, но ещё не быть принятым в её ряды. Или, как было сказано выше, быть уже не большевиком, а всё ещё состоять в рядах партии.